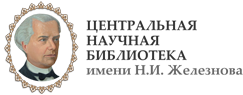Маловичко С.И. Н.И. Железнов и европейское социокультурное пространство
Маловичко Сергей Иванович - доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой.
Аннотация
Статья посвящена анализу исследований культурных универсалий, основанных на компаративном подходе, которыми занимался Н.И.Железнов. Автор не ставил цель сравнить тексты Железнова с подобными или отличными интеллектуальными конструкциями, а, следуя формуле культурно-интеллектуальной истории: взаимодействие «внутреннего» (текст) – «внешнего» (контекст), включить их в глобальную культуру, в частности, в контекст интеллектуальной модели, существовавшей в социокультурном пространстве Европы XIX в. Основным источником явились тексты Железнова, опубликованные в 50 – начале 70-х гг. XIX в..
Изучение моделей сознания, представленных культурными универсалиями как больших и малых социальных групп, так и отдельного индивида, сегодня превращается в актуальнейшую задачу. Особый интерес представляют структуры, формы, функции общественной мысли, категории исторического сознания и коллективной памяти, исследование, мифологем, культурных идентичностей, предоставляющих возможность приблизиться к пониманию человека во времени и времени в человеке.
Николай Иванович Железнов (1816 – 1877) обучался в Горном кадетском корпусе, затем закончил философский факультет (естественное отделение) Санкт – Петербургского университета. Работал чиновником министерства финансов. В 1840 г. защитил магистерскую, а затем в 1842 г. и докторскую диссертации по ботанике. Железнов работал профессором Московского университета, участвовал в разработке положений об освобождении крестьян. Он стоял у истоков создания сельскохозяйственной академии под Москвой, которая под именем Петровской была открыта в 1865 г. Железнов стал ее первым директором (1865-1869 гг.).
Посредством своих наставников в кадетском корпусе Н.И. Железнов сумел впитать идей Просвещения, в студенческие годы и вплоть до 50-х гг. он воспринимал культурные универсалии романтизма, и как мы увидим ниже, оказался восприимчив к новым научным универсалиям второй половины XIX в. – позитивизма. Однако надо заметить, что в общественной мысли и науках XIX в. влияние Просвещения было достаточно сильным.
Именно влияние последнего заметно в словах Железнова: «Идеалом гражданского общества можно считать такое состояние, при котором каждый член до того проникнут чувством долга и так хорошо знает свои обязанности, что не только не требует со стороны правительства ни малейшего надзора, но сам во всех случаях, старается помочь ему в сохранении порядка и существующих законов». В этой мысли ученого присутствует дух просветительства, чувствуется его вера в беспредельные способности человека и его пока еще скрытые механизмы совершенствования.
Самым устойчивым в сознании Железнова оказались черты, присущие культуре романтизма. Дух романтизма влиял на направления и школы в искусстве и литературе, на науку, общественную мысль и философию первой половины XIX в. Но сам романтизм во многом опирался на интеллектуальное наследие Просвещения. Деятели обоих направлений высоко оценивали способности человека, обращались в поисках ответов к природному началу, следовали концепциям постепенного движения и изменения человеческих обществ.
Романтизм воздействовал на конструирование европейцами определенной модели мира. В модели мира русского образованного человека второй и третьей четверти XIX в. понятие развития было неразрывно связано с понятиями просвещения и образования. Именно они рассматривались как основа для последующих политических и социальных изменений. Важным являлось не только понимание ценности развития, но и осознание необходимости непрерывного движения, совершенствования, а также поиски ответов на вызовы времени. Железнов как раз это имел ввиду, когда говорил: «В настоящее время, когда хозяйственные условия России совершенно изменились и обновились, как нельзя более уместно открытие такого учреждения, в котором бы каждый хозяин мог дополнить недостающие ему сведения для того, чтоб с новыми силами приняться за устройство своего состояния…».
Он рассуждал о ценности саморазвития, постоянного совершенствования и просвещения и, можно заметить, что его мысль была построена согласно правилам романтической культурной практики: «Здесь первое место принадлежит дарованию верно оценить хозяйственные условия и соответственно им избирать самые выгодные способы извлечения дохода. Далее – опытность, обладание нравственными качествами: деятельностью, бережливостью, настойчивостью, и пр. Наконец знание. От важности этих качеств, необходимых для образования хорошего техника зависит то явление, что при разных обстоятельствах то или другое качество имеет преимущественное влияние на достижение конечной цели – обогащение».
Русская интеллигенция, одним из активнейших представителей которой был Железнов, выступала носителем идеи модернизации, особую остроту которой придавало сравнение России с Европой. Ученый выступал за быстрое, интенсивное развитие технологического сельскохозяйственного производства в России, указывая, например, что «подземное осушение составляет теперь главную основу земледелия во всей почти Европе», но у нас пока, «редкий хозяин имел ясное понятие о том, что это такое…»
Модернизационное сознание формировало у европейцев в XIX в. ценностное отношение к современности, отличной от прошедших времен. В этой современности воспринятая посредством европейского светского образования и литературы модель мира отводила определенные места «Своему» прошлому, настоящему и будущему. Быть «современным», замечают новейшие историки Элон Конфино и Питер Фритцше, предполагало иметь способность все видеть в исторических условиях, ощущать историчность. Неслучайно, Железнов писал: «Судьбы России нам неизвестны, но все показывает, что она вступает в новую стезю, по которой вернее и скорее достигнет той степени устройства и благосостояния, на которой должна находиться всякая образованная страна».
Его рассуждения о настоящем, конечно, формулировались современной жизнью, но были подчинены будущему: «В настоящее время, когда хозяйственные условия России совершенно изменились и обновились, как нельзя более уместно…» и т.д. Через несколько лет он повторил начало этой мысли и заметил: «Со времени освобождения земледельческого труда, главные хозяйственные условия в России изменились. Не только улучшение разных земельных угодий, но и ежедневные полевые работы, во многих местностях, должны производиться теперь на наличные деньги, а выгоднейшее их употребление, составляющее главную задачу хозяина, требуют знаний и опытности, которых соединение и есть цель хозяйственного образования».
Европа была для русских идеальным типом государственности, способной к политической, культурной и хозяйственной модернизации. Мир не ограничивался Европой, но он распадался на идеальный ориентир, представленный «высшей» стадией цивилизации и на остальной «отсталый» или «варварский» мир. По этому идеальному ориентиру, которым, конечно, выступала Европа, соизмеряли военные географические, культурные, политические и социальные и др. смыслы.
После Наполеоновских войн в сознании европейцев, в том числе и в культурных слоях русского общества, окончательно утвердилось представление о превосходстве европейцев над всеми другими народами мира, появилась «идея Европы», одной из отличительных черт которой была цивилизованность манер или civilites – гражданственность. Это отчетливо видно в русских текстах того времени. В 1815 г. Н.М. Карамзин сравнивал колонизированные русскими земли с Америкой, отмечая общие для истории европейской мировой гегемонии особенности: «Подобно Америке Россия имеет своих Диких (Карамзин имеет ввиду восточные народы Российской империи. – С.М.); подобно другим странам Европы являет плоды долговременной гражданской жизни». То есть, цивилизованность и/или гражданственность сравнивалась именно с Европой. Такое положение России на континенте было программно закреплено Екатериной II в первом же пункте своего знаменитого «Наказа» Комиссии по уложению: «Россия есть держава европейская».
Концепт «Европа» был для русских скорее символом, нежели совокупностью настоящих государств, каждое из которых имело свою историю и собственную, часто непохожую на другие судьбу. Евроцентризм в представлениях формирующейся русской интеллигенции обусловливался просветительской моделью мира, в которой европейское рассматривалось как норма, как свое. В данном случае Железнов употреблял даже фразу: «просвещенная оценка». Однако евроцентризм имел и иные последствия, превращаясь чуть ли не в культурную универсалию веры. Например, коллега Железнова по Московскому университету, известный историк С.М. Соловьёв произнес настоящий панегирик евроценризму, оправдывающему колониальные захваты европейцев: «Всем племенам Европы завещано историею, - писал он, - высылать поселения в другие части света, распространять в них христианство и гражданственность; западным европейским племенам суждено завершать это дело морским, восточному [европейскому] племени, славянскому, - сухим путём».
Люди сводили современные явления и знания о прошлом и настоящем к норме, сформированной европейской светской традицией образования. Они представляли мир и человеческие общества с помощью определенных форм репрезентации, имевшие узнаваемые конструкции передачи и восприятия. В рамках евроцентристской модели мира для понимания ценности позитивных качеств своего российского пространства необходимо было ставить Россию в число европейских стран, подчеркивая ее цивилизованность и/или гражданственность в противоположность «варварскому» миру. «Едва ли в какой либо другой стране, - пояснял Железнов, имея ввиду, конечно, европейские страны, - разведение гречихи производится в таких обширных размерах, как в России. Во Франции и Германии она также часто разводится как кормовое растение, но в России она составляет очень существенную часть народного продовольствия».
В XIX в. евроцентризм в сознании русского человека, как и в сознании других образованных европейцев, находился на ментальном уровне, превратившись в почти бессознательную установку восприятия пространства. Железнов писал: «А между тем, если сравним суровый и влажный климат северной России с климатом остальной Европы, то убедимся…» В другом месте, он отмечал таким образом: «Изложенная мною программа принята во всех существующих в Европе хозяйственных и лесных академиях…» Как показывают тексты Железнова, он не мыслил иначе, обратное, было бы равнозначным отказу от «Своей» культуры.
Еще просветители XVIII в. искали в прошлом общие и универсальные законы, но в XIX в. романтики сосредоточили внимание на уникальных и самобытных свойствах. Однако в тексте Железнова, относящемуся к 1866 г. мы находим культурную универсалию всеобщности: «Из определения цели хозяйства ясно видно, что везде, где живут и действуют люди, эта цель может быть достигнута наилучшим образом и что не может быть местности, в которой бы разумное или рациональное хозяйство было не возможно». Конечно, в данном случае на мысль Железнова уже оказывает влияние позитивизм.
В середине XIX в. в европейских науках развивается новое направление – позитивизм. Возвращается просветительский оптимизм и вера в общественный прогресс. Основное внимание направляется на изучение не индивидуального, но всеобщего, постоянно действующего. Среди исследователей культивировался интерес к естественным законам, которым подчинялись природа и человек. Вспомним, сказанные в первой половине XIX в., слова О. Конта, что общественные «изменения» (modifications) всегда подчинены одному детерминированному порядку и поэтому, наблюдая общественные организмы можно проводить их «точное сравнение» (lexacte comparaison). Историк Соловьёв вспоминал о естествознании, когда написал, что прогресс – это явление «общее всем организмам, как природным, так и общественным». Неслучайно, и Железнов в 1871 г. отмечал: «В северных странах, отличающихся краткостью лета и суровостью зимы, в продолжение которой глаз утомляется единообразием снежного покрова, жители должны питать несравненно большую любовь к растениям, нежели в теплых странах, где растительность останавливается на короткое время и то лишь отчасти».
Идею социально-исторического прогресса европейцам дал проект Просвещения и уже с XVIII в. эта идея активно использовалась социогуманитарным знанием. Прогресс манифестировался, как неизбежность и выступал в качестве «всеобщего закона», детерминирующего динамику истории. Прогресс человечества был, прежде всего, прогрессом человеческого разума, поэтому европейская наука, а следом за ней и образование подчеркивали разумность, осмысленность и целенаправленность всемирно-исторического процесса. В XIX в. идея прогресса становится подобна символу веры.
Позитивизм воспринял от рационализма XVIII в. веру в безграничный прогресс общества, убеждение в определяющей роли научных и технических знаний для всего исторического развития. В русской периодике XIX в. мы встречаем репрезентации образов «прогрессивных» войн по завоеванию Кавказа, а затем и Средней Азии, бурно развивающегося хозяйства регионов, победы женского образования и изменения повседневного быта, связанные с идеей прогресса. Эта идея определяла и картину мира в сознании Железнова. У него встречаем такие слова: «уровень народного развития»; «в состоянии изменить» или необходимость русским хозяевам «дружного, деятельного и просвещенного стремления к улучшениям». Вот другая его фраза: «Для России все равно, как бы не строили, лишь бы скорее заменили дерево более безопасными материалами».
Европейская наука уходит своими корнями в антропоцентрическое христианское сознание, которое за тысячелетие усвоило определенное отношение к живой и неживой природе, создав западную культурную универсалию роли человека как «венца творения», отличную от восточного отношения к природе. Железнов в традиции западного модернизационного сознания писал: «Оскудеют реки! стоит ли теперь об этом думать… Вешней воды, по которой у нас совершается главное судоходство, не в силах исчерпать никакое орошение…» Такая позиция русского ученого ни чем не отличалось от отношения его европейских современников к природе. Эта черта европейского сознания стала одной из предпосылок нынешней экологической и демографической ситуаций. Ведь согласно Библии люди были созданы Богом для определенной цели «…и да владычествуют они над рыбами морскими; и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Бог советовал первым людям: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею».
Дух Просвещения протестовал против оков «невежества» и «суеверия», навязываемых богословской догмой и верой в сверхъестественное, делая выбор в пользу экспериментального и рационального знания и обращаясь в объятия мирской жизни. В европейском модернизационном дискурсе утвердилась вербальная пара «наука и религия». Как указывает К.Т. Макинтайр, в литературе можно найти такие дихотомии как: «светская и религиозная», «естественный и сверхъестественный», «разум и вера», «объективный и субъективный», «современный и средневековый» и др. Религия либо вовсе отрицалась, либо обретала обличье рационалистического деизма или этики естественного закона. Романтизм в отличие от Просвещения уже не видел в религии врага, но в головах образованных людей, в практике светского образования религия уступила перед верой в разум и науку. Итогом такой секуляризации сознания явилось то, что, как отмечает Джейн Эллис, уже с середины XIX в. в России начался массовый отход интеллигенции от церкви.
Николай Бердяев писал, что сама русская религиозная мысль в лице Хомякова и Достоевского провозгласила христианскую свободу. Не только церковная иерархия, не только Церковь не есть уже авторитет, но не есть авторитет и сам Бог. Как бы дополняя Бердяева, Сергей Булгаков продолжает, что так повелось изначала, «еще с духовного отца русской интеллигенции Белинского. И как всякая общественная среда вырабатывает свои привычки, свои особые верования, так и традиционный атеизм русской интеллигенции сделался само собою разумеющеюся ее особенностью… как бы признаком хорошего тона». Стоит ли удивляться, что в одной из статей Железнова встречаются такое строки: «Я не принадлежу к числу поклонников обыкновенной монастырской деятельности, которая заключается в одном богослужении, в затворничестве и вообще в удалении от общества. По моему мнению, одними молитвами невозможно достигнуть спасения собственной души, не принося земле посильной лепты служением человечеству. Поэтому, я с удовольствием увидел бы закрытие многих из наших монастырей». «Меня занимают житейские дела, которыми монастырь приносит пользу многочисленным его посетителям».
Европейская, в том числе русская культура, с начала XIX в. оказались восприимчивы к принятию истории, как системообразующего стержня, на котором держалась европейская и национальные идентичности. В рамках самой европейской культуры на то были еще и религиозные основания: христианское сознание имело представление о развитии и о том, что это развитие имеет цель – совершенствование. Поэтому сама научная история XIX в. и европейский историзм уходят корнями в Библию. Неслучайно, уже в XX в. Марк Блок заметил: «Христианство – религия историков».
В России не только историки профессионалы и писатели романисты обращались к историческим темам. С начала XIX в. обращение к истории в обществе становится одним из способов осмысления настоящего. Естественник Железнов не оказался исключением. В работе «О разведении хмеля в средней России» он обратился к вопросу истории разведения этой культуры в отечественном хозяйстве. В 1861 г. ученый опубликовал небольшую статью «Несколько данных для истории русского садоводства». Конечно, исследователь не был историком, поэтому фактический материал для него оказался более ценным, нежели анализ источников и сообщаемых в них сведений. Профессиональный историк вполне оправданно может назвать такую исследовательскую практику эрудитской, но не надо забывать, что ко времени исторических штудий Железнова никто из них еще не интересовался поднятыми в работах Железнова вопросами.
Как уже можно было заметить, позитивизм у Железнова переплетался с романтизмом, который заново «открыл» природу. Не рациональную и механистическую природу Бэкона и Ньютона, подчинявшуюся познаваемым законам, а всеобщую творящую силу, которая лежала в основе всего сущего. Природа сама устанавливала правила, не подчиняясь разуму человека. Именно такой мотив мы находим в публикации Железнова «Поездка в Крым в 1870 г.» «По моему мнению, развалины тогда только начинают украшать местность, когда на них являются признаки растительности, - пишет он. - Тогда под сению кудрявых дерев или под покровом душистого дерна они кажутся отдыхающими от пережитых событий. Зверство, алчность, славолюбие и их неразлучные спутники – бедствия, страдания, разрушение утрачивают потрясающие свойства, отодвинувшись веками на неизмеримое расстояние. Под пером пытливого историка или искусного романиста они становятся предметом бесстрастного исследования или украшением игривого рассказа. Свидетельницы многого, прошедшего, теперь одинокие опустевшие развалины служат доказательством тщеты человеческой деятельности в сравнении с вечною природою; но вместе с тем, пережив десятки поколений и уцелев от конечного разрушения, они носят на себе следы творчества целых народов, дают мудрому вопрошателю красноречивые ответы о их жизни и деяниях и, как будто с сознанием исполненного долга, сохраняют спокойную величавость».
В этой пространном отрывке находится еще одна интересная культурная коннотация, отсылающая нас в век XVIII-ый, к культуре европейского классицизма. Слова «дают мудрому вопрошателю красноречивые ответы об их жизни и деяниях» ни что иное, как русская рецепция античности. Ведь именно герои Геродота вопрошали пифию или дельфийского оракула. Такая практика была характерна для литературы второй половины XVIII – начала XIX в. Каким образом она появилась в культурной модели ученого, она просто след юношеского образования или осознанное подражание древним, в подходящем для того месте текста? Ответить на этот вопрос сейчас невозможно.
Ключевым для европейцев не только XIX, но и нынешнего века был принцип историзма. В сочинениях романтиков движение истории понималось как органический процесс. У всех явлений появилось дополнительное историческое измерение: их следовало рассматривать в становлении, развитии, расцвете и упадке. Например, у Железнова читаем: «Эта страна, несомненно, была одним из самых первых обиталищ человеческого рода… Развалины зданий, надписи, надгробные камни встречаются здесь почти на каждом шагу.… Если вспомнить, сколько народов спорили из за обладания этим клочком земли…» Такой взгляд подразумевал, что все без исключения эпохи, как необходимые стадии роста человеческого сообщества, были по-своему значимы.
Прекрасный пример историзма сознания Железнова находим в других его словах: «Нет сомнения, что наше хозяйство находится еще на такой низкой степени, в таком первобытном состоянии…» В данном случае, фраза «первобытное состояние» является в мысли Железнова ни чем иным как метафорой, но европейская культура подобные понятия применяла очень часто. Так, в написанном К. Марксом и Ф. Энгельсом «Коммунистическом манифесте» (1848 г.), указано, что просвещенная буржуазная Европа так же «как деревню … поставила в зависимость от города, так варварские и полуварварские страны она поставила в зависимость от стран цивилизованных, крестьянские народы - от буржуазных, Восток - от Запада». В 1860 г. русский офицер Р.А. Фадеев сравнивал жителей Северного Кавказа с доисторическими находками, раскопанными археологами, написав: «Обрывки племён, которых след давно исчез на земле, кавказские общества сохранили в своих бездонных ущельях первобытный образ, как сохраняются остатки старины в могилах».
В документации российской гражданской и военной администраций середины XIX в. можно встретить выражения, характеризующие «недоразвитость» восточных народов: «между полудикими народами», «Хлебопашеством по лености своей и по непривычке к трудолюбию [не занимаются]», «соображаясь с грубыми понятиями полудикого народа», «народа, который до сих пор, находясь более или менее в младенчестве» и т.д. Как похожа последняя фраза на то, что до этого о народах Востока писал А.С. Пушкин: «Мы окружены народами, пресмыкающимися во мраке детских заблуждений». Ему вторил бывший декабрист А.А. Бестужев-Марлинский: «[Азии] ум доселе остался в пеленках». Поэтому, по мнению писателя, Россия продолжает на Кавказе дело Петра I и ведет «не пустые завоевания»; все это делается для победы «над варварством», во «благо человечества».
В сознании русских образованных людей того времени укоренилась метафора «бремени белого человека». Неслучайно, один провинциальный чиновник писал, что нужно «проследить и взвесить насколько этот этнографический элемент [ногайцы] оказался удобным для усвоения начал лучшей цивилизации и на сколько Россия, принявшая ногайцев под свою державу, выполнила эту нелегкую задачу». Метафора «бремени белого человека» неплохо укладывалась в рамки евроцентристской и ориенталистской практик. Такая практика была уже хорошо знакома образованному слою русского общества первой половины и середины XIX в. Известный писатель И.А. Гончаров в 1853 г. спрашивал: «…Принесет ли европейцам победа над дикими и природой то вознаграждение, которого они вправе ожидать за положенные громадные труды и капиталы, или эти труды останутся только бескорыстным подвигом, подъятым на пользу человечества?... Долго ли так будет? скоро ли европейцы проложат незаметаемый путь в отдаленные убежища дикарей и скоро ли последние сбросят с себя это постыдное название?».
Гончаров задал риторический вопрос, на который еще раньше начал отвечать А.С. Пушкин. В рукописном варианте «Путешествия в Арзрум» он уже отмечал перемену в калмыках, соприкоснувшихся с русскими: «Замечу, что порода калмыков начинает изменяться, и первобытные черты их лица мало-помалу исчезают».
Я не случайно привел эти примеры обыденной рефлексии образованных европейцев на присутствие в картине мира «Чужого», жителя Востока, представлявшего «второстепенные», «недоразвитые» культуры. Такие примеры я пытался найти и в текстах Железнова, который воспитывался на них, впитывал их, они его окружали в виде литературных и научных конструкций образов «Чужого». Признаюсь, я ничего подобного не нашел. В текстах русского ученого присутствуют сюжеты с описанием восточных народов. Он, например, описывал татар в Крыму, но описывал точно также как русских или украинцев. «В домике, назначенном для путешественников, нам подали многоблюдный, отличительный для татарского быта обед… Мы, впрочем проникли, и в княжеское жилье, и даже женская его половина сделалась доступною, конечно только для женской части нашего общества», писал он.</p>
Железнов не встраивал, чужую для него культуру восточного народа в привычную для европейского сознания стадиальную схему социального развития: дикость – варварство – цивилизация. Он не стал подобно своим современникам оценивать уровень их хозяйственного, социального и культурного развития. Лишь в одном месте ученый указал на возникшее раздражение от языка чужой культуры: «То муэдзин, в вечернем сумраке, сзывал к молитве правоверных в Алупке.… То слышался раздражительный напев татарских дервишей в бахчисарайской дворцовой мечети…» Однако, приведенные слова не идут в сравнение с риторикой европейской социальной науки. Только сейчас, в эпоху, когда вышедшая из европейского лона культура после - модерна, осознающая себя иной по отношению к модерну, стала отказываться от традиционного ориенталистского словаря. Новая формирующаяся культура признает, что к современности народы шли не одной дорогой (где в пути могли быть «недоразвитые», «отсталые», «дикие», «варварские» и пр.), а разными путями, а значит, в прежних категориях их оценивать уже невозможно.
Если европейские просветители искали в прошлом общие и универсальные законы, то романтики и некоторые позитивисты сосредоточили внимание на уникальном и самобытном в национальной истории. Эти особенности связывались с чертами присущего каждой нации народного духа, в соответствии с которым происходило развитие национального государства. В европейской общественной мысли национальная идентичность воплощалась, прежде всего, в особенностях жизни народа той или иной страны, внутреннем единстве языка и культуры. Интеллектуалы ставили перед собой задачу изучения проявлений духа народа. Такая культурная практика оказывала влияние на Железнова, который спрашивал: «… но что же мешает русским изучить основательно этот предмет, выбраться на самостоятельную дорогу и упрочить благосостояние не только Крыма, но и всей южной России».
В картине мира Железнова обнаруживается еще одна черта, связанная с европейским чувством историзма. Это чувство так называемого транзитного или переходного периода, от уходящей современности к новой современности. Ощущение и/или осознание транзитного периода влияло на конструкцию мысли ученого, например о том, что потребность в новом сделалась особенно ощутительной и имеет «большое влияние на развитие отечественного земледелия». Ярче всего чувство транзитного периода проявилось в словах ученого, которые я уж выше приводил; поэтому сейчас выделю только демонстрирующую указанное чувство его часть мысли: «Судьбы России нам неизвестны, но все показывает, что она вступает на новую стезю…» Как указывает современный историк Г. Бликс это историческое темпоральное чувство (ощущения времени) было навеяно культурой романтизма или «отчеканено романтиками» (coined Romantics). Оно характеризуется ощущением перехода от собственного упорядоченного времени к будущему периоду творческих преобразований.
В Российской империи в текстах различного происхождения уже в 30-х гг. XIX в. широкое распространение получили не бытовавшие ранее понятия национализма: самобытность, русская общинность, миссия России и т.д. Следует заметить, что погружение русской общественной мысли в континентальное культурное пространство, в общеевропейский контекст, сравнение ее с другими европейскими интеллектуальными практиками показывает, что не одна Россия и ее интеллектуалы пытались защитить свои национальные черты. Ярче всего это проявилось в немецкой, итальянской, венгерской и славянских культурах.
Например, большой вклад в разработку романтического идеала немецкой нации внесли работы политических романтиков Йозефа Гёрреса, Фридриха Шлегеля, Франца фон Баадера и др. о национальной самобытности, которая отличала немецкие общества от других европейцев. Образ немецкого «собственного пути» (Sonderweg) носил ярко выраженную антизападную направленность. Поздние немецкие романтики переработали такую идею в идеологию пангерманизма. Аналогичные процессы национального возрождения способствовали появлению у чехов, поляков, словенцев, украинцев и у других славянских народов различных славянофильских концепций.
Следует согласиться с Ю.М. Лотманом, что русское классическое славянофильство - отечественное отражение идей немецкого романтизма и в этом смысле оно одно из течений все того же европейского романтизма. Железнов не был сторонником славянофильских взглядов, но он не являлся и крайним западником. Он был сыном России и патриотом своей земли, поэтому отмечал, что «русский хозяин… поступит благоразумнее, если будет соображаться со своими средствами, нежели гоняться за тем, что происходит во Франции». Русский ученый не размахивал патриотизмом как знаменем, подобно некоторым сторонникам московитской «самобытности» XIX или начала XXI вв., для этого он был слишком образованным и культурным человеком.
Патриотизм Железнова был тесно связан с коллективной памятью русского народа, которая также была частью его картины мира и не всегда рефлексировалась самим носителей такой памяти. Например, в записках о посещении Крыма в 1870 году ученый описывал античные и средневековые памятники, но совершенно иначе он отнесся к следам недавней национальной трагедии – Крымской войны 1853 – 1856 гг. Железнов заметил: «Не таковы новые развалины! На них не успели поселиться мох, седые лишаи или корявые кустарники; на них еще не исчезли следы разрушительных вражеских снарядов, не улеглись страсти, поднявшие бурю; не укротилось чувство мщения, взывающее о возмездии; еще открыты раны храбрых защитников и слишком свежи могилы близких нам людей, напоминающие о горьких, невозвратимых утратах. Все эти мысли производят в душе болезненное ощущение. Тихая грусть не подавляет чувства изящного, но в жгучем горе нет наслаждения! Вот впечатления, которые испытывает, думаю, каждый при виде развалин Севастополя».
Напротив, трагедия крымских татар, народа, который еще не стал своим в картине мира русского человека не нашла отклика в коллективной памяти. Следы бывших татарских селений, оставленных жителями после завоевания Крыма Российской империей во второй половине XVIII в. описываются Железновым совершенно иначе, нежели места сражений недавней Крымской войны. «Если в Крыму мало следов земледелия, - писал ученый, - за то много следов исчезнувших татарских селений. Единственные их остатки заключаются теперь в обширных кладбищах состоящих из низких каменных столбов, кое-где увенчанных такими же чалмами. Самые дома не только разрушены до основания, но не оставлено и камней, из которых они были сложены».
Таким образом, картина мира русского ученого являлась современной для всего европейского социокультурного пространства, была выстроена на общих для образованных европейцев базовых стереотипах сознания, но имела и некоторые оригинальные, в том числе и национальные черты.
Закончить данную статью я хочу одним важным замечанием. Меня не могла не привлечь очень актуальная для сегодняшнего дня фраза Железнова. Она актуальна не увиденным русским ученым, а тем, как он письменно организовал наблюдаемое пространство. «От обширного города едва уцелело несколько башен, соединенных стеною, ворота, основания мечети, синагоги, христианского храма и немногих других зданий», написал он. Время разрушает созданное руками человека, но еще больше разрушает человеческая ненависть, непримиримость одной культуры к другой. В своей модели мира Железнов такой ненависти места не отвел. Он поставил рядом три разных символа, означающих религиозные культуры: мечеть, синагогу, христианский храм. Более того, символ своей культуры он указал последним, как бы протестуя против шовинистической культурной иерархии, сложившейся в «просвещенных» европейских империях XIX в..